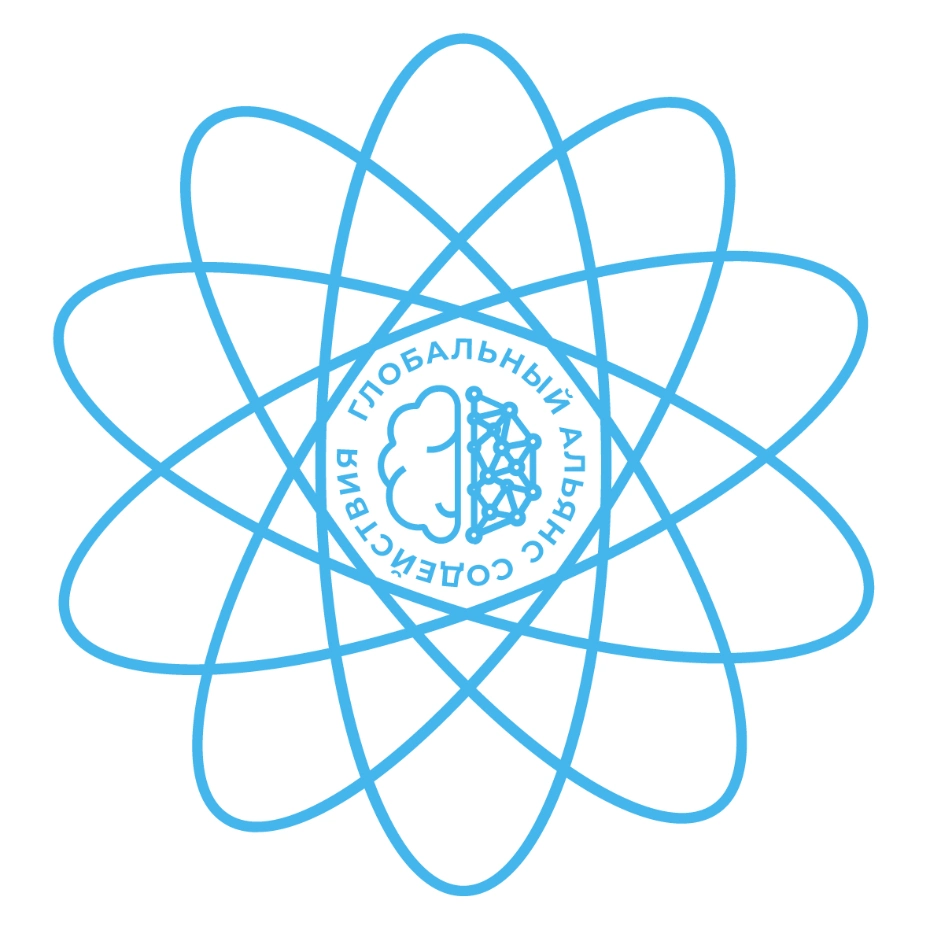Совместно с благотворительным фондом помощи научным исследованиям «Глобальный Альянс Содействия» World Arabia запускает серию публикаций об ученых, основателях стартапов и визионерах от мира науки. Денис Логунов — заместитель директора по научной работе Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН, доктор биологических наук.
ДОЛГИЙ ПУТЬ К БЫСТРОЙ РАЗРАБОТКЕ
Как вы стали ученым?
Честно говоря, неожиданно. Я всегда завидовал людям, которые со школы, или с I курса института знают, что их ждет и кем они будут. Я же до последнего курса Курского медицинского университета этого себе не представлял и в науке оказался случайно. На IV курсе я попал на местную биофабрику, где ее директор Николай Стефанович Шевырев проводил курсы иммунологии и прикладной биотехнологии. Именно после них я, наконец, понял, чем хочу заниматься в жизни. Собственно, Шевырев и еще Владимир Егорович Козлов в первую очередь предопределили мой интерес к науке и в частности к иммунологии. Дальше я попал в Москву в аспирантуру и докторантуру после чего вектор был понятен и определен. И уже тут в моей судьбе ключевую роль сыграли Борис Савельевич Народицкий и Александр Леонидович Гинцбург, которые руководили научной разработкой вакцины.
Были ли во время разработки вакцины какие-нибудь интересные моменты, которые, например, сейчас выглядят смешными, а тогда совсем наоборот?
Ни тогда, ни сейчас мне ничего не кажется смешным. Хотя в пандемию многое делалось с колес, и даже первые решения государств о каких-то ограничениях были не всегда сбалансированными. Но мы сразу пошли наперекор ВОЗ — в марте она собирала экстренное совещание по ковиду, где обсуждались основные критерии для создания вакцин: они должны были быть одновалентными — один укол и защита на всю жизнь. Но мы понимали, что живую вакцину, которую можно один раз вводить, так быстро не сделать. А на все остальные вакцины — рекомбинантные, векторные или любые другие для формирования иммунитета против быстрой вирусной инфекции, когда у нее короткий инкубационный период — точно не хватит мощности. И поэтому мы в отличие от всех остальных сразу пошли на двухфазную разработку вопреки ВОЗовским рекомендациям. Дальше все тоже переключились на бустерное двухкратное введение инъекции. Но наша разработка велась не первый год: еще в 2016 году министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова дала госзадание на разработку вакцины против ближневосточного респираторного синдрома — это тоже коронавирус. Она уже тогда предвидела и говорила, что от коронавирусов может исходить угроза. И за последующие три года мы дошли уже до второй фазы клинических исследований, перепробовав все схемы — и двухкратную, и однократную, и поняли, что работает только прайм-буст с гидрологичной иммунизацией, и вышли к совещанию ВОЗ с пониманием того, что и как нужно делать. У нас были подобраны дозы, режимы и штаммы, которые легли в основу будущей вакцины «Спутник V». И когда началась пандемия, мы просто заменили генез от ближневосточного респираторного синдрома на генез SARS-CoV-2. Таким образом и появилась наша вакцина. Хотелось бы найти в этой истории что-то забавное, но мы подошли к ней подготовленными в отличие от многих других разработчиков.
Сколько времени ушло на получение готовой вакцины?
Надо сразу сказать, что ее регистрация была сделана Постановлением Правительства № 441 — это специальное постановление для режима чрезвычайных ситуаций, поэтому регистрация была не по результатам третьей фазы, а лишь второй с обязательством провести третью. Мы зарегистрировались на этих условиях осенью и завершили третью фазу через полгода, получив постоянную регистрацию. В этих условиях правительство отработало очень важную инициативу — мы ведь не живем в условиях пандемии каждый день, и в нормальной ситуации нас попросили бы обязательно провести сначала третью фазу.
Также надо отметить, что первые рекомбинантные вирусы начали получать еще в начале 1980-х, первые клинические исследования с аденовирусами провели в 1993 году. Более 500 клинических исследований было проведено к началу пандемии COVID-19. Американская армия, а это сотни тысяч людей, полностью вакцинировалась аденовирусом четвертым и седьмым. И против эболы в Африке применялся аденовирус-26, им провакцинировали порядка 200 тысяч человек. То есть, аденовирусы — это уже была изученная платформа, поэтому она и попала под Постановление 441. Мы не придумали умозрительно новую вакцину и потом за шесть месяцев ее разработали, у нас был в активе наработанный мировой опыт. Имея это и еще производственную линию, пусть и небольшую, как в Гамалеи, нам удалось так быстро разработать свою вакцину. Но сам путь к ней был очень долгим.
Ведется ли сейчас работа по модернизации данной вакцины?
Эта работа идет постоянно — нами ведется мониторинг совместно с Департаментом здравоохранения Москвы, с Правительством Москвы и Минздравом России — собираются циркулирующие штаммы и постоянно проверяется напряженность иммунного ответа, сформированного в популяции, к тем новым штаммам, которые появляются на территории РФ. Сейчас актуализирован состав вакцины — он работает против всех циркулирующих штаммов, начиная от XBB до BА2.86. Эта работа по сути является основой для смены штаммов. И если появится угроза новых штаммов, вакцина снова будет обновлена.
ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ В БОРЬБЕ С РАКОМ
По Вашим прогнозам, через сколько лет может наступить новая пандемия?
Нет таких прогнозов. Мне кажется, что в данном случае нужно идти от обратного, как в случае с ближневосточным респираторным синдромом, когда было предсказано, что надо ждать беды от коронавирусов. У нас есть список из 20 опасных вирусных патогенов, а если с бактериальными, то и порядка 30, и с ними нужно действовать проактивно. Понятно, что можно бояться неизвестного, но у нас есть известные вирусы с патогенным потенциалом, и надо закрываться от них. Сегодня можно создать до 20 вакцинных прототипов и довести их до второй фазы клинических исследований, доказать безопасность, показать их работу на приматах, и имея подобные заготовки в такой активной позиции гораздо выгоднее жить, чем что-то прогнозировать и чего-то бояться. Прогнозировать нужно, но уже есть конкретно что делать.
Над какими еще научными разработками вы сейчас трудитесь?
Центр много чем занимается. Но лично я занят воспроизведением мРНК, у которых есть одно интересное преимущество: если говорить о многократных повторяющихся введениях вакцин, то вирусные векторы для этого не очень подходят. Они индуцируют сильный иммунитет, когда нужно сделать пару инъекций, а третью — уже через год, следующую еще через год. В таком режиме они идеально работают. Противоопухолевых антигенов как таковых не существует, их надо сложно составлять, и здесь как раз выстреливает технология мРНК, когда можно вакцинировать 10 раз каждые 5–7 дней. Именно эта технология может стать окном возможностей в борьбе с онкологией. И мы сейчас совместно с центром Герцена и центром Блохина — это наши ведущие онкологические центры — получили госзадание на разработку противоопухолевых вакцин. Это одно из направлений, которое меня в настоящий момент по-хорошему беспокоит.
Когда можно ожидать появление таких вакцин?
Сроки вполне определенные. Во всем мире уже есть публикации на эту тему, подходы уже понятны. В нашем случае доклинические испытания завершатся до конца 2024 года, а выход и апробация в клинических условиях, соответственно, через год и два. В итоге в ближайшие три года есть все шансы дойти до применения мРНК в противоопухолевой вакцинации.
Это будут вакцины от каких-то определенных видов онкологии?
Конечно, все сразу нельзя охватить. В первую очередь это меланома, рак легкого и рак поджелудочной железы.
А какие еще интересные разработки ведутся в центре?
Много интересного. Разрабатываем вирусоподобные частицы как основу для вакцин против ротовируса. Уже зарегистрирован препарат Фтортиазинон, который позволяет бороться с устойчивостью к бактериальному антибиотику, и когда он применяется в комплексе с антибиотиком, то лечение проходит лучше и количество рецидивов в разы меньше. Это одна из приятных новостей.
Также у нас активно развивается генотерапевтическое направление, в первую очередь аденоассоциированные векторы, которые используются для терапии моногенных заболеваний. Есть несколько интересных направлений, где сочетаются фундаментальная и прикладная науки.
Что из последних научных открытий в медицине больше всего впечатлило?
Это чек-пойнт ингибиторы. Знаете, почему? Ты вводишь одно антитело и блокируешь иммуносупрессию, и человек с IV стадией меланомы полностью излечивается и живет более трех лет без всяких рецидивов. Это чудо. Ярчайшее практическое применение, когда используя понятный механизм, ты позволяешь организму разбудить иммунную систему и победить опухоль на последней стадии — это очень впечатляет.
Если заглянуть в будущее, какие открытия в вашей сфере можно ожидать через 20–30 лет?
Трудно фантазировать, но, безусловно, будущее в биологии и медицине за искусственным интеллектом, большими данными и их разнообразным анализом. Даже для того, чтобы создать противоопухолевую вакцину, нужно прочитать огромный геном, потом придумать, как соединить пептиды в единую молекулу, чтобы они эффективно среагировали — это огромный пакет программ и решений, который умозрительно нельзя сделать. И мы подошли к такому моменту, когда все последующие шаги и открытия в науке требуют огромного процессинга данных и результатов. И я думаю, что через ИИ и Big Data мы выйдем на самые разные вещи — то, что было разговорами, станет технологией. Если мы говорим о терапии рака, то это будет только персонифицированная терапия, но врачу не нужно будет сидеть и что-то долго придумывать. В пакет программ будут загружены данные классических анализов и получен в ответ чарт-лист реконструкции. Уже сегодня принят закон, когда внутри медицинских центров могут создаваться собственные индивидуальные лекарственные препараты по госпитальному исключению — еще 10 лет назад об этом и подумать было нельзя, а сегодня это становится реальностью. Поэтому заглядывать в отдаленное будущее очень сложно, а ближайшее уже вот такое.
НАУКА — ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ
В перерывах между научным открытиями чем любите заниматься, есть ли у вас хобби?
Играю в футбол, бегаю, хотя по мне и не скажешь. Скорее уже хожу, и коленки подводят, но футбол по-прежнему самый любимый вид спорта. Раньше три раза в неделю занимался, сейчас всего один.
Ваша самая большая мечта и как ученого, и как человека?
Надо просто продолжать работать. Мне, повезло, что я попал в науку, ведь тут всегда есть что делать. Думаю, меня в этом поддержат многие коллеги: у нас достаточно зайти в интернет и ткнуть в ссылку о научных разработках, и всегда есть, чему удивиться. Если ты перестаешь удивляться, то выгораешь, как и во многих других профессиях. Но в других профессиях ты можешь попасть в зону комфорта и дальше уже не развиваться. А здесь нельзя пребывать в комфорте — наука сама по себе является драйвером развития. И если ты это принял, то в этом существуешь и тебе интересно. А раз интересно, то находишь возможность удивляться каждый день, и это самое большое счастье. У тебя есть желание и завтра прийти на работу, и послезавтра...