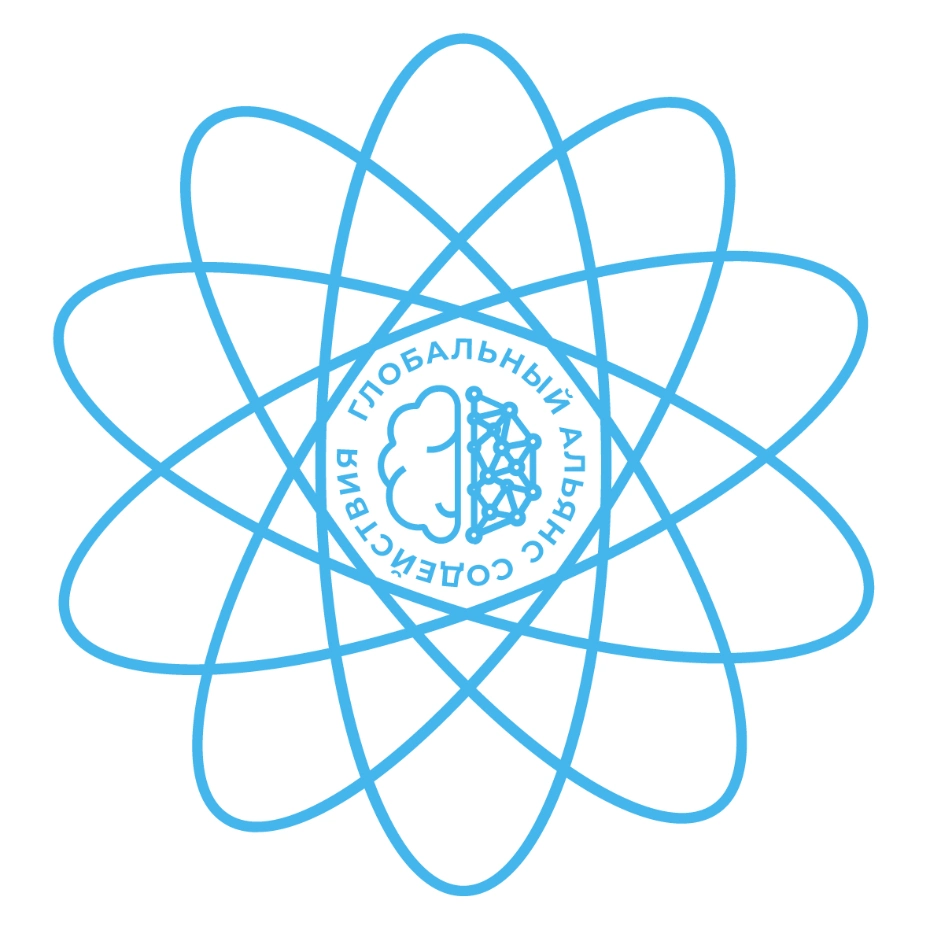Совместно с благотворительным фондом помощи научным исследованиям «Глобальный Альянс Содействия» World Arabia запускает серию публикаций об ученых, основателях стартапов и визионерах от мира науки. Дмитрий Чудаков — молекулярный биолог, иммунолог, член-корреспондент РАН. Он рассказал о процессе создания first-in-class препарата и технологии будущего, о том, является ли старение болезнью и возможно ли коммерциализировать научные разработки в России.
НАЧАТЬ С НУЛЯ И СОВЕРШИТЬ ОТКРЫТИЕ
С чего началась ваша любовь к науке?
Наверное, у меня был сформирован импринтинг. Бабушка работала в науке, резала сверчков, дедушка как радиоэлектронщик работал в МГУ на кафедре биологии животных. В общем, исходная мотивация была заложена с детства. При этом какого-то понимания, что я хочу идти в науку и что-то там делать не было достаточно долго, причем, я бы сказал, неприлично долго. Мои однокурсники по биофаку МГУ уже работали в научных лабораториях, писали статьи и знали, что дальше делать. А у меня все были какие-то отвлеченные мысли, я даже думал про свой бизнес. И только к последнему курсу университета мои педагоги Юлия Малеева и Екатерина Мерзляк в меня попытались вдохнуть какую-то более-менее осмысленную идею. На сегодняшний день они уже много лет работают в моей в лаборатории, а тогда были моими учителями. Но тогда у них это плохо получалось: какую-то базу дали, но не очень заинтересовали. В то время в мире было много других интересных вещей. Это был период конца 1990-х, и родители мне говорили, что надо думать, уезжать ли из страны, потому что не здесь же заниматься наукой, если при этом хочешь что-то кушать. Но для меня буквально все решила получасовая беседа с ученым Михаилом Мацем. Он тогда работал в лаборатории ИБХ РАН с Сергеем Лукьяновым, делал флуоресцентные белки, и эта тема только начинала разрабатываться. Мы поговорили о задаче, которую я в тот момент «ковырял» и мне она казалась скучной. И он как профессиональный молекулярщик продемонстрировал, что можно это делать и так, и так. Мне это показалось занятным. Он меня зажег, а мне оставалась как раз полгода до окончания биофака, и я уже настойчиво захотел пойти работать в лабораторию Лукьянова. Ну а куда же еще?! Вот там мне уже дали возможность посмотреть, как люди работают, как у них горят глаза, и что они делают с ДНК. Мне это стало интересно.
В 2023 году у вас вышла нашумевшая статья в Nature Medicine про новый подход к лечению аутоиммунных заболеваний, и про то, как вы с его помощью сделали препарат для лечения болезни Бехтерева. Как себя чувствуют люди, разработавшие препарат, который никто до этого не смог воспроизвести? И ваш подход приемлем только для лечения болезни Бехтерева или теперь мы научимся исцелять все типы аутоиммунных заболеваний?
Мы все еще очень нервно это переживаем, хотя уже многое про него понимаем. Сейчас вторая фаза отработает, впереди третья, и как там дальше он себя поведет — пока неизвестно. Мы до сих пор волнуемся, собираем информацию. Но, думаю, нам действительно удалось сделать важный препарат, который точно очень многим пациентам поможет. Мы уже работаем и по другим аутоиммунным заболеваниям. К примеру, над диабетом I типа уже лет 7 или 8 лет ведутся разработки. И надеемся, что и для других аутоиммунных заболеваний такой тип препаратов — не этот самый, но этого же класса — покажет свой потенциал.
Но важно другое — мы впервые продемонстрировали, что можно действительно найти и подавить клоны Т-лимфоцитов. Теоретически это всегда было понятно, но никто этого не делал. И найти их в пациенте задача очень непростая. Наша работа началась с момента моего перехода от флуоресцентных белков, которыми я занимался с 2000 по 2010 годы. Но уже примерно в 2008-м мне эта тема показалась скучноватой, так как всегда хотелось быть ближе к медицине и делать что-то полезное. Флуоресцентные белки тоже используются в скрининговых препаратах, но это совсем другая история. А тогда я стал искать что-то другое, и так как в моем бэкграунде не было иммунологии, то мне пришлось начинать все с нуля. Но рядом оказался Сергей Анатольевич Лукьянов, который предложил заняться этим направлением, и мы рьяно туда двинулись. Сегодня вся наша работа в иммунологии — это огромный спектр направлений: аутоиммунные и онкологические заболевания, старение иммунной системы и. т. д. Но изначально мы решили разобраться с болезнью Бехтерева и вылечить ее. Сергей Анатольевич поставил себе такую жизненную задачу. И с этого момента легко посчитать временной промежуток — с 2008 года по сегодняшний день. Получается, у нас ушло 15 лет на создание препарата: с нуля до второй фазы клинических исследований.
И теперь мы начинаем переживать за итог работы огромного коллектива, а это 100 человек, которые трудились над данным изобретением 15 лет. И уже начинаем задумываться: а мы еще сможем сделать что-то сопоставимое по значимости с этим препаратом? Такое редко бывает. Но, с другой стороны, много всего происходит, и самое интересное, конечно, еще впереди. Ведь эта история все еще не стала скучной.
ПРО СТАРЕНИЕ, ИММУНИТЕТ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Раз мы затронули тему старения. Многие ученые склоняются к тому, что это болезнь, и она излечимая. Что вы по этому поводу думаете?
Мы про это много спорили и пришли к такой полубиологической-полуфилософской конструкции, видимо, близкой к истине. Есть две разные истории: первая — это про скорость развития, созревания и старения организма, про некую программу онтогенеза, которая может быть развернута или сжата как гармошка или пружина в зависимости от того, как это выгодно каждому виду. Иными словами, с какой скоростью ему выгодно обновлять поколения по эпидемиологическим или эволюционным соображениям или же сообразно природным циклам. Эта «пружина», которую можно регулировать, и она выставлена у человека на какой-то период порядка 100–110 лет в зависимости от условий. И, возможно, когда-нибудь мы научимся с ней работать. К примеру, на старте сможем ее «подкрутить», и у людей будет не просто долгая жизнь, а, например, еще и растянутое детство — не 5–6 лет на даче с бабушкой, а все 50.
И вторая история, не имеющая отношения к первой — она эволюционно гораздо более молодая. Это работа нашей иммунной системы. Она выполняет сложную задачу — наш адаптивный иммунитет должен защищать нас от разных инфекций, с которыми мы никогда раньше не встречались. Не только мы в своей жизни, но и все предыдущие поколения. К примеру, появился какой-то новый вирус, а мы ничего о нем не знаем. И нам нужно иметь такой набор ключей, чтобы подобрать необходимый и защититься от всего на свете. Это очень сложно, так как нужно выбрать правильный тип иммунного ответа. Далее система должна запомнить свой ответ, чтобы в следующий раз нас снова защитить. Так работают вакцины: в нашей крови и лимфоузлах живут клоны, которые помнят всю нашу жизнь, чем мы болели на ее протяжении, и защищают от повторных инфекций. Это довольно мощная интеллектуальная машина, которая обладает памятью и способна принимать решения. Но она иногда дает сбой и ошибается, и аутоиммунные заболевания — яркий пример такой ошибки. Она не должна была атаковать собственную ткань, но ошиблась, запомнила ответ и воспроизводит эту ошибку еще и еще раз. Теперь представьте: за всю нашу жизнь мы встречаемся с тысячами разных инфекций, патогенов, и система пытается все это отработать и запомнить и почти во всех случаях отвечает правильно. Но в редких случаях может ошибиться, и запомнить эти ошибки. С возрастом ошибки накапливаются. Это формирует микровоспалительные ниши, давая слабые аутоиммунные ответы. И мы сейчас думаем, что эти накопленные ошибки иммунной системы — это и есть причина большего количества возрастных заболеваний. Мы все больше понимаем, что и метаболические нарушения, и ниши, в которых развиваются опухоли, болезни Паркинсона и Альцгеймера, а это все нейровоспалительные заболевания (то есть воспалительные заболевания) — все это неверная работа иммунной системы.
И если бы иммунная система не делала ошибок и не запоминала бы их, то мы были бы хуже защищены от пандемий и возвращающихся вирусных инфекций, но зато были бы лишены многих возрастных проблем, и жили бы здоровыми до 110 лет. Конечно, только в том случае, если бы не умерли по пути от гриппа.
Почему я так уверенно об этом говорю? Дело в том, что мы изучали долгоживущего слепыша — грызуна, который живет 30 лет и не болеет раком. Его иммунная система не меняется. Какая была в детстве, такая и остается. Она, например, не копит клоны регуляторных клеток — не надо ей ничего регулировать, потому что ничего в ней не менялось. Так вот этот грызун визуально не стареет и продолжает размножаться и в 5, и в 35 лет. Но, тем не менее, он все равно по-своему стареет — у него истончаются пулы стволовых клеток, в результате чего он умирает здоровый и спокойный. Наверное, такие механизмы есть у разных видов, и работают они по-разному, но мы же изучаем только человека и несколько видов мышей, крыс и собак. О других видах млекопитающих пока что знаем мало.
Можно ли стереть иммунную память?
У иммунологов живет такая фантазия. Но это сложно. Все наше тело основано на этой памяти. Организм новорожденного ребенка в первые месяцы жизни тренирует клоны регуляторных клеток — с какими антигенами нам жить в мире и где они должны находится. Совокупная память человеческого иммунитета — это своеобразная библиотека нашего взаимодействия с миром, и если ее просто стереть, то страшно представить, что в связи с этим может произойти.
А что можно сделать, чтобы люди жили до 150 лет?
Видимо, мы можем подобрать ключи к более мягкому воздействию, как минимум, к снижению воспалительных процессов с возрастом. Мы все-таки живем в относительно чистых условиях чем те, в которых эволюционировали. Поэтому можем отрабатывать прицельно — находить и устранять конкретные ошибки иммунной системы. Но их не 10, не 100 и даже не 1000, и найти все довольно сложно. Но два рецепта на ближайшие 5–10 лет — это научиться системно и безопасно подавлять избыточное воспаление. Уже проведено прекрасное исследование на 3000 человек, помогающее антителом находить один из основных воспалительных цитокинов, что помогает снизить частоту повторных инфарктов у сердечников, а это ведь тоже воспалительный процесс. И еще одно исследование — снижение частоты развития онкологических заболеваний за счет подавления ниш воспаления, в которых живет и развивается рак, но это довольно грубый препарат, хотя более мягкие и более разумные способы борьбы тоже есть. В общем, можно научиться ловить клоны и их уничтожать.
Может быть, возможно, но пока не знаю, как — снизить степень упрямости нашей иммунной системы, чтобы она не так долго помнила свои ответы, расслабить ее. Но важно не резко сбросить эту память — мы же все-таки эволюционировали во всей нашей сложности, и просто так взять и вычеркнуть одну историю не получится, так как все слишком переплетено в человеческом организме.
Что из последних открытий в мире больше всего впечатлило или воодушевило?
Самое яркое — это вакцины на основе м-РНК, которые работают очень выраженно и дают мощный и длительный клеточный ответ. Они разрабатывались компанией Угура Сахино BioNTech для борьбы с онкологией, а стали широко известны благодаря ковиду, хотя это и было вынужденное отклонение от его исходного плана. Просто в 2020-м он собрал свою команду и сказал: стоп, делаем вакцину от ковида. У них на тот момент уже была договоренность с компанией Pfizer. Но сегодня его вакцины единственные, которые дают серьезные результаты по лечению онкологии. Другой вопрос, насколько массово и интенсивно их можно применять от вирусных эпидемий. И тут мне становится страшновато с той позиции, что возможности нашей иммунной системы не безграничны. И еще существует опасность в том, что уже не на уровне индивида, а на уровне популяции система упрется в то, что своим главным врагом будет считать COVID-19. А если придут другие коронавирусы, а у нее импринтинг отвечать только на этот. Мы уже подобным образом обжигались на гриппе. При этом вакцина Сахино очень сильная, и память у нее глубокая. И в целом это направление очень мощное, особенно в онкологии, и, возможно, есть способы его развернуть на 180 градусов и лечить аутоиммунные заболевания.
ПРО ПРЕМИИ И ПРАВИЛА
Вы последние 15 лет работаете на острие науки — в тех областях, за что сегодня дают Нобелевские премии. А хотелось бы и вам ее получить, и что бы она изменила в вашей жизни?
Должен сказать, что особого желания нет. Нобелевская премия — это всего лишь некий символ, который мотивирует молодых людей на то, чтобы пойти в науку. С возрастом начинаешь гораздо спокойнее к этому относиться. В последнее время меня больше беспокоит состояние коллектива: хочется, чтобы он работал, чтобы все были живы-здоровы и всем было интересно.
Ну а если пофантазировать на тему, что бы изменила премия... Вероятно, появился бы определенный пиар-статус, с позиции которого можно было бы разговаривать с миром, и быть при этом услышанным. Но пока не знаю, о чем бы я мог с ним говорить. Вообще хорошо, что есть разные премии, которые так или иначе мотивируют. Но я отношусь к этому, как к случайному процессу. К примеру, Сергея Лукьянова выдвигали на Нобелевку за флуоресцентные белки, и он бы мог ее получить вполне заслуженно. Но не получил, так как эта история все-таки довольно случайная, а сегодня еще и крайне политизированная.
Кстати, на последней конференции в Южной Африке нобелевский лауреат Джеймс Эллисон рассказывал на лекции о молекуле, которую открыл, и я с ужасом понял, что он не представляет, как она работает. Он хороший ученый, но с тех пор мы знаем намного больше, и это совсем не то, что он думал во время ее открытия. Но он до сих пор не погрузился на следующий уровень сложности, а остался там, где когда-то был. Так что все это очень условно. Например, в крутых журналах есть очень хорошие научные статьи, а есть просто мусор, и в то же время в средних журнал есть очень стоящие работы, которые почему-то дальше не пробились.
Главная мечта ученого?
Это любая возможность сделать то, что может принести неожиданный клинический успех, как с Бехтеревым — необязательно сложное, но такое же интересное. То, что изменит ландшафт в медицине, поможет какому-то пациенту или кого-то вдохновит на какие-то открытия. Так что моя мечта — сделать еще несколько подобных вещей.
Какую болезнь хотелось бы вылечить?
Сейчас все наши мысли крутятся вокруг диабета I типа — хотелось бы в нем разобраться и попробовать вылечить. Мы взялись за эту задачу, движение есть, но задача сложная — на порядок сложнее Бехтерева, и такого быстрого успеха здесь не будет. Мы работаем совместно с BIOCAD, и многое уже сделано, но это займет время. Может, и не получится сделать такое лекарство, но попутно получатся другие вещи. Вообще трудно предсказать как это будет. Мечты ученого теоретически реализуемы, ну а дальше как пойдет.