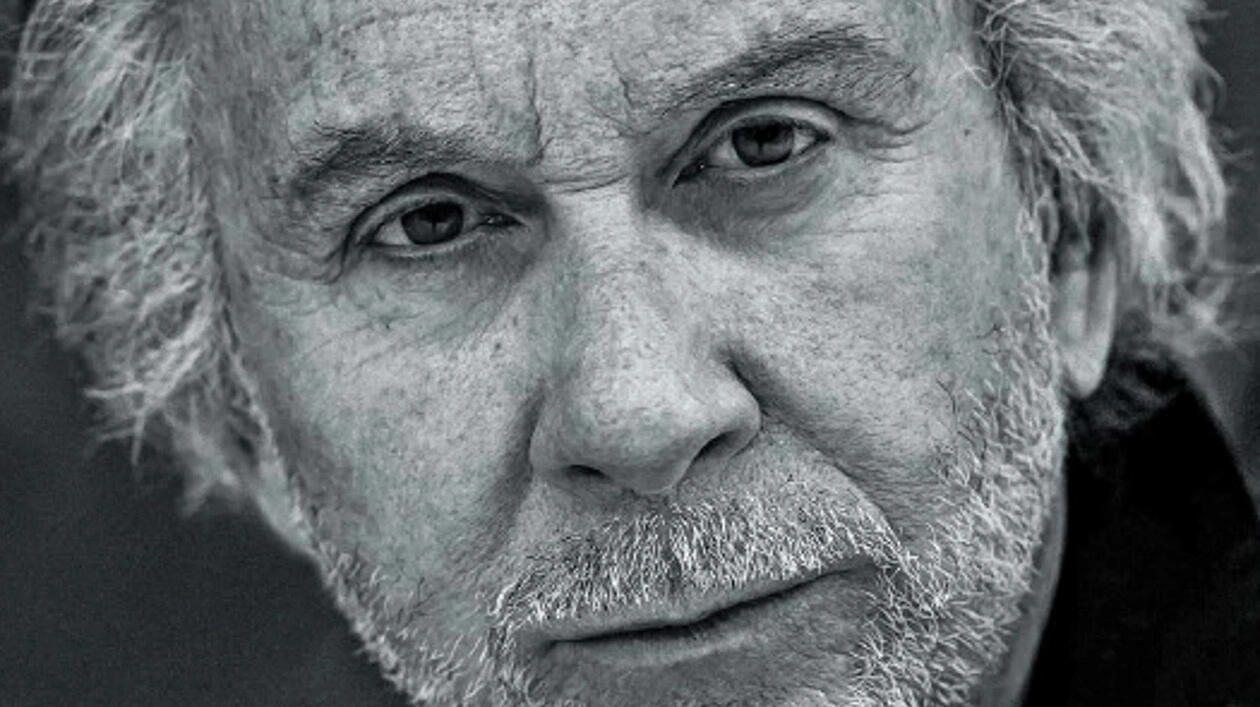В сгоревшем недавно Национальном музее Бразилии погибло почти все, кроме знаменитого пятитонного метеорита Bendegó, найденного в 1784 году, и это не удивительно — он состоит из железа. Возможно, металлические скульптуры высотой под сотню метров, созданные нашим новым колумнистом, скульптором, музыкантом и поэтом Бернаром Вене, станут тем несгораемым культурным кодом, который будет нести информацию о нашей цивилизации через миллионы лет.
Версаль прошел со ставшей уже привычной скандальной атмосферой. Каждый раз общественность пытается завести дело в суде и говорит, что это ужасно, это нельзя выставлять. В день открытия инсталляции мы с моим директором Жан-Жаком Орегоном и моим адвокатом встретились в полдень за обедом. «Бернар, — сказал мне юрист, — я разочарован: это наша четвертая выставка, но на этот раз, кажется, суда не будет». Надо ли говорить, что в тот самый момент у него в кармане зазвонил мобильный телефон. «Да, хорошо, спасибо, — ответил он коротко и повернулся ко мне: — Бернар, у нас будет суд».
Моя одержимость — творить, но не ваять скульптуры для украшения спален. Я называю это «effondrement» — что-то похожее на коллапс, взрыв. Обычно скульпторы работают подобно конструкторам: например, берут кусок дерева и объединяют в композицию с чем-то еще. Мне нравится сложить все в стройном порядке и внезапно «уронить» композицию, именно это я и хочу показать. Слово «деконструкция» в моде, но это называется именно так. Однако не все понимают, что ты хочешь сказать, потому что твои работы — это часть современного искусства, модерн.
Я применяю эту основную концепцию во всех областях. Общая идея для живописи, скульптуры, музыки, поэзии, фотографии, кинематографа. Так родился балет, который исполнял Национальный оркестр Франции. Так создается многое, и, может быть, лучше всего мне это удалось в поэзии, даже лучше, чем в скульптуре. Книга в стиле модерн была написана пятьдесят лет назад, и говорят, что нынешние поэты-авангардисты делают то же самое. Несколько студентов писали дипломы по моей книге и пришли к выводу, что Кеннет Голдсмит, один из самых известных современных поэтов авангарда, пишет в похожем стиле. Мой помощник связался с Голдсмитом и передал ему книгу; мы встретились и подружились. Он сказал тогда: «Я прочитал вашу книгу. И прочитал ее еще раз. Это самое интересное из прочитанного мною за последнее время».
В жизни бывают моменты, когда формируется будущее: ты чувствуешь, что все происходит — здесь, сейчас. Два очень важных события случились в моей жизни. Семья наша была чрезвычайно бедной, у отца была опухоль мозга, и он был вынужден много времени проводить в больницах, моей матери пришлось практически в одиночестве растить троих сыновей. В какой-то момент у нее даже не оказалось денег, чтобы нас всех прокормить, и она отправила моих братьев учиться в церковно-приходскую школу.
Я был очень худым, плохо одетым и болезненным ребенком. У меня была астма. Я не занимался спортом, был очень слабым, но довольно неплохим учеником: легко давался французский, но совершенно не хотелось учить историю и географию. Однажды рисовал что-то в школе — мимо проходил учитель. Увидев рисунок, он спросил, я ли это нарисовал — так, будто поверить в такую возможность было невозможно. И я впервые в своей жизни увидел в чьих-то глазах восхищение. Высокую оценку. Он сказал, что это просто прекрасно, и попросил нарисовать еще что-нибудь, чтобы повесить мои работы на стену. Мне было одиннадцать, и в тот день произошло то, чего никогда прежде не случалось в моей жизни: благодаря искусству я ощутил свою ценность.
После этого произошла вторая не менее важная встреча. В деревне был местный художник, который рисовал незамысловатые картины на продажу: морские пейзажи, красивые виды. В нашей семье никогда не произносилось слово «искусство», никто не был склонен к культурным темам. Но я очень любил его картины, часто ходил посмотреть, как он работает. В один прекрасный день мы пошли к нему вдвоем с матерью и она упомянула, что ее сын тоже неплохо рисует. На следующий день мы принесли рисунки по его просьбе, он посмотрел на них и с уверенностью сказал, что я буду рисовать лучше, чем он, и посоветовал купить необходимые инструменты в Дине, городе в двадцати пяти километрах от нашей деревни. Мы поехали туда покупать краски. Там я заметил небольшую книжку, на обложке которой была изображена женщина, моющая ноги в реке. В уголке картины было написано незнакомое мне слово — Ренуар. Владелец магазина в ответ на вопрос о том, что означает Ренуар, показал мне другие, большие по размеру книги репродукций картин и рассказал, насколько баснословных денег они стоят и сколько музеев в мире с радостью их выставляют.
Та маленькая книга до сих пор со мной — свидетель момента, в который я понял: это происходит. Когда ты живешь в рабочем поселке, где есть фабрика, ты идешь и работаешь там. Так случилось со всеми членами моей семьи, предполагалось, что так будет и со мной. Месье Ренуар, спасибо вам за мой путь. Может быть, вы для меня не самый любимый художник сегодня, но тогда вы положили начало моей судьбе. Мать купила много книг о художниках, и это было все, что я хотел делать в тот период, — взахлеб читать о Ван Гоге, Рембрандте, Гогене. Мама очень помогала мне, хотя и не хотела для меня судьбы художника — это означало вечно голодать.
Однако иногда судьба не дает нам выбирать, я был очень мотивирован и отправился в путь — в Ниццу. Братья служили там в армии и познакомились с человеком, который говорил, что знает кого-то, кто знаком с другим человеком, который знаком с Пикассо. В Ницце мне довелось познакомиться с первым человеком из этого списка. Мне было семнадцать, и я попытался поступить там в Школу декоративного искусства. Экзамен был простой, но я провалился. Сейчас это событие кажется удачей: целых пять лет не были потрачены на неинтересное дело. Вместо этого познакомились со вторым человеком из списка «пути к Пикассо». Мы стали близкими друзьями с известным французским художником по имени Сезар. Однажды, уже гораздо позже, он был приглашен на обед с Пикассо и предложил мне заехать за ним на его автомобиле, чтобы подвезти его домой, а перед этим выпить по чашке кофе с Пикассо. Это была блестящая идея, но я не умел водить машину. Я не познакомился с Пикассо, а Пикассо не был знаком со мной, но думаю, что это не так страшно.
Итак, следующим этапом стала поездка в Нью-Йорк. Это случилось потому, что мне посчастливилось познакомиться с Арманом, великим неореалистом. Он был очень щедрым и поддерживающим другом. Я был беден, голоден и мечтал о Нью-Йорке. Он предложил мне продать одну из его работ, и мечта стала реальностью. В Большом Яблоке мне удалось обрести новых друзей, познакомиться с художественным миром и остаться там жить. Это был центр моей вселенной и культурный центр мира.

У нас было место встреч, «Maxus Kansas City», куда разрешалось приходить только людям искусства: каждый столик был занят кинематографистами, художниками, музыкантами, и, если кому-нибудь пришло бы в голову заложить под одним из столов бомбу, в мире не осталось бы искусства как такового. Я проводил там каждый вечер. Однажды Энди Уорхол решил устроить там праздник. В какой-то момент ко мне подошел Роберт Раушенберг и пригласил меня на медленный танец. Я решил, что должен это сделать, несмотря на то что не был геем. Тридцать лет спустя мы с женой пришли на его выставку. Он был в инвалидном кресле, которое везла молодая женщина. Жена очень хотела, чтобы мы напомнили ему ту историю. Мне это не казалось хорошей идеей, вряд ли он мог что вспомнить, да и мозг его к тому времени был как беспримесное виски. Неожиданно для меня мы оказались рядом: вокруг не было никого, только мы, та молодая леди и он в кресле. Моя жена настаивала, и я сказал: «Хей, Боб, ты не помнишь меня, но мы выставлялись вместе у Лео Кастелли». «А, ну да…» — ответил он скучающе. «Не беспокойся, у меня есть для тебя история. Однажды Уорхол устроил вечеринку в Максусе и мы с тобой танцевали медленный танец. Я знаю, что ты и не можешь этого помнить, но я — помню». Роберт посмотрел на мою жену и сказал ей: «Он был чертовски хорош в танце».
Так проходит мирская слава. Я знал всех из моего поколения из течения поп-арт. Энди Уорхол, Раушенберг, Джаспер Джонс были моими друзьями. У меня есть работы, подписанные ими. И более поздние течения, еще более интересные мне, — минималисты Джаспер Джонс, Джон Кейдж и другие. Потом были концептуалисты. Некоторые до сих пор делают то же самое, но мне хочется двигаться дальше и дальше вперед. Повторять себя неинтересно. Пока мой ум активен, я предпочитаю создавать что-то новое.