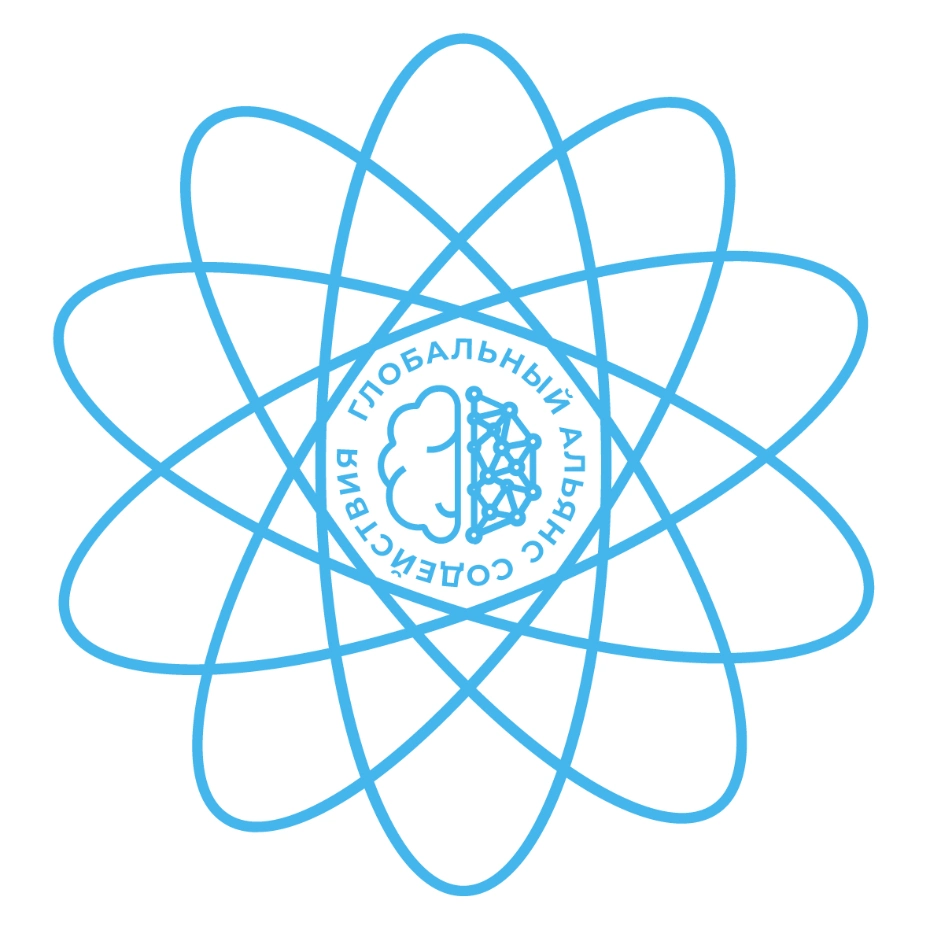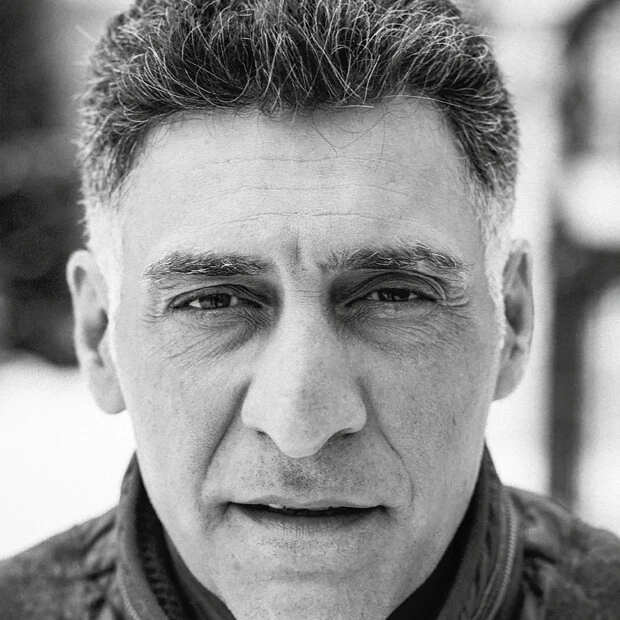Совместно с благотворительным фондом помощи научным исследованиям «Глобальный Альянс Содействия» World Arabia запускает серию публикаций об ученых, основателях стартапов и визионерах от мира науки. Михаил Лебедев — PhD, профессор мехмата МГУ и главный научный сотрудник ИЭФБ РАН, автор более 100 научных публикаций. Именно из его лаборатории вышли сотрудники компании Илона Маска Neuralink, включая ее сооснователя Макса Ходака. Ученый рассказывает о том, как работают нейроинтерфейсы, когда нейрочипы станут массовым явлением, а сам человек сольется с искусственным интеллектом.
Что сейчас самое актуальное в повестке? Чем вы занимаетесь в данный момент, какими разработками?
Сейчас мы занимаемся всем, что связано с мозгом. Что такое мозг? Это такая «вещь», которая соединена со спинным мозгом, а он представляет собой длинный стержень, от которого отходят спинномозговые нервы. Есть еще симпатические ганглии, которые близки к мозгу, и парасимпатические ганглии, идущие к внутренним органам. Затем следует ствол мозга, таламус, и за ними — большой головной мозг, как раз тот, который мы называем мозгом. Все это работает хорошо до поры до времени, пока человек не сталкивается с какими-то заболеваниями, которые нужно лечить. И наша задача состоит в том, чтобы создавать нейротехнологии, которые могли бы лечить заболевания мозга. Основа нашей нейротехнологии — это интерфейс «мозг-компьютер», то есть устройство, которое подключается к мозгу, считывает с него сигналы и может обратно послать информацию в мозг посредством нейростимуляции. Здесь у нас много разработок, в первую очередь для реабилитации инсульта, есть разработка с компанией «Арома Би-СИ-Ай» (по запахам), то есть работа через ольфакторную систему. И еще много идей по разным вопросам на основе нейротехнологий.
Это ведь то же самое, что сейчас делает Илон Маск. Вы идете в этом же направлении?
Именно так. Я бы даже сказал, что Илон Маск в некотором смысле идет по нашим следам: все, что он показывал, мы уже раньше делали в лаборатории, когда я работал в Америке. Мы записывали у обезьяны нейрональные каналы, используя их для управления виртуальной рукой или курсором, она так же как и у Илона Маска играла в пинг-понг. Мы демонстрировали и беспроводную запись, где обезьяна ходила по беговой дорожке. Так что где-то Маск нас повторяет, хотя технологии сейчас уже более новые, миниатюрные, и это впечатляет. Но, думаю, сегодня мы все равно от него не сильно отстаем с нашими нынешними разработками. Сейчас у нас главный упор делается на конкретные медицинские приложения, а не на какие-то футуристические темы, основанные на инвазивных технологиях, но их мы тоже будем касаться в свое время.
Почему вы вернулись из Америки?
Во-первых, нужно объяснить, почему уехал. Это случилось в 1991 году, когда только приоткрылся железный занавес. Мне было интересно попутешествовать по свету, я интересовался нейрофизиологическими задачами, много проработал с нейрофизиологией обезьян, затем начал заниматься нейроинтерфейсами. Америка тогда лидировала в этих вопросах, а в России в те годы наука была не на высоте, страна переживала сложные времена. Исходя чисто из карьерных соображений для меня лучше было тогда находиться в Америке. Но уже в начале 2000-х я начал довольно часто приезжать в Россию, и было видно, что дела здесь идут на подъем, и пора возвращаться. Для меня сразу же открылись великолепные возможности: сначала мне дали грант в ВШЭ, потом грант РНФ в Сколково. Сейчас я работаю в МГУ и в Санкт-Петербурге. В целом, я оцениваю нашу науку как находящуюся на подъеме, а Россию — как место прекрасных возможностей. Если посмотреть на карту нейротехнологий сейчас, то на ней единственное яркое пятно — Северная Америка, в других странах пока что довольно бледно. Но если искать возможности для развития технологий, то надо это делать в тех местах, где их пока нет, и думаю, что как раз в России мы все это сможем разовить.
Поддерживаете сейчас контакты со своими зарубежными коллегами?
Да, конечно. Каких-то активных коллабораций не веду, но со всеми поддерживаю хорошие дружеские отношения. Наука остается вне границ, я даже ни с кем из коллег не обсуждаю политические вопросы.
Что сейчас впечатляет из зарубежных разработок, связанных с мозгом?
Много всего интересного. В целом, развитие нейронауки впечатляет: мы уже многое понимаем. А что касается нейротехнологий, то впечатляет развитие самих технологий, — это стало мультидисциплинарной областью, где работают инженеры, математики, робототехники. Все сплотились, и в какой-то момент это количество перейдет в качество, и мы увидим интересные приложения.
Какие результаты мы сможем увидеть уже в ближайшее время?
Первый результат, который мы уже увидели, — это кохлеарный имплантат, самая успешная на сегодняшний день нейротехнология. Это устройство, которое возвращает глухим слух, и миллионы людей по всему миру уже получили эту технологию. Тем не менее, хоть эффективность нейротехнологии доказана, но при этом в данной области есть то, что можно улучшать.
Далее, по моему мнению, нас ждет развитие сенсорных интерфейсов, которые стимулируют разные отделы нервной системы и возвращают ощущения.
Следующий этап, думаю, — это появление зрительного имплантата, в котором электроды будут стимулировать зрительную кору мозга, получая сигналы от камеры, которая находится в очках, и таким образом восстанавливая зрение. Кроме того, уже есть интерфейсы, которые возвращают тактильную чувствительность. В частности, у нас есть такие наработки: мы создали для ампутантов стимуляторы периферических нервов, которые восстанавливают чувствительность.
Другой класс интерфейсов — это те, которые считывают информацию из мозга. Здесь уже задача сложнее. Мы не знаем, как кодируется информация в мозге, и нам нужно приблизиться к пониманию нейронного кода (а мы уже приближаемся), и здесь будут яркие улучшения, например, протезы, которые восстанавливают движения: считывая сигналы мозга, человек сможет управлять протезами экзоскелета.
Есть еще когнитивные интерфейсы для считывания мыслей. В общем, еще много всего интересного нас ждет на этом пути.
Как скоро, по вашим прогнозам. использование нейрочипов станет массовым явлением?
Я думаю, что массовое использование нейрочипов уже очень близко. Существует много участков в нервной системе, куда их можно поместить, начиная от соматической нервной системы до автономной, которая управляет нашими органами. Практически в любой ее отдел можно поместить чип, который будет считывать информацию либо стимулировать данный отдел с разными целями. И здесь какое заболевание нервной системы ни назови, везде этот чип будет полезен. Например, он поможет при лечении депрессии, в восстановлении моторного контроля или чувствительности, то о чем я уже говорил. Также он будет полезен в улучшении когнитивной деятельности, с его помощью можно даже восстанавливать память.
Мы пока не видим людей с чипами в большом количестве потому, что технология эта пока дорогая, сложная и для того, чтобы ею воспользоваться необходима хирургия. Ну и в целом она пока еще не достаточно надежна. Но по всем этим направлениям продолжается работа, есть уже существенные улучшения и, я думаю, скоро встретить человека с чипом в мозге не будет уже такой редкостью.
В чем нейрочипы могут быть полезны здоровому человеку?
Это вопрос спорный: некоторые отрицают пользу нейрочипов для здорового человека, другие, напротив, утверждают, что для расширения функций мозга они нужны. Но, наверное, истина где-то посередине: мы не будем кардинально улучшать человека с помощью нейрочипов, но, думаю, такие чипы могут использоваться для мониторинга нашего состояния. Почему бы нам не начинить наше тело и наш мозг датчиками, которые будут сообщать компьютеру о том, что происходит? Все же мы эволюционировали в Homo Sapiens, улучшая технологии, а теперь настало время технологий улучшать нас самих.
Будет ли слияние человека и искусственного интеллекта?
Это, несомненно, случится, поскольку развитие ИИ сейчас очень и очень впечатляет. Но я не думаю, что ИИ угрожает человеку, как это утверждает тот же Илон Маск. Считаю, что ИИ все-таки помощник человека, и слияние произойдет именно в области нейроинтерфейсов — система ИИ очень эффективна именно в декодировании информации из мозга. То есть ученому разобраться в сигналах мозга сейчас сложно, а вот ИИ со своими алгоритмами имеет для этого больше шансов. Соответственно он поможет всем нам и в научном понимании мозга, и в развитии всех систем, которые его улучшают.
Может ли такое стремительное развитие нейротехнологий привести к появлению новых профессий в будущем?
Не берусь сказать, что возникнут какие-то абсолютно новые профессии, но совершенно точно старые профессии претерпят изменения — они станут мультидисциплинарными. Мы увидим это в первую очередь на примере существующих специальностей в медицине и в науке. Нейрохирург уже не будет просто оперировать со скальпелем — это будет продвинутый нейрохирург, который умеет обращаться с ИИ и нейроинтерфейсами. А робототехник не будет просто делать «железяки», а будет создавать антропоморфные системы.
Каково быть ученым?
Это довольно интересно. Но это, опять-таки, не стационарное состояние. Даже на своем веку я видел много изменений, поэтому если хочешь быть и оставаться ученым, нужно постоянно учиться и шагать в ногу со временем.
Что делать, чтобы сохранить работу мозга максимально продуктивной?
В первую очередь нужно следить за его кровообращением — это очень васкулярный орган, в нем много кровеносных сосудов, и именно его кровоснабжение очень важно. Иногда пишут: «решайте кроссворды, математические задачи для лучшей работы мозга» — все это верно, но если нет хорошего кровоснабжения, то и кроссворды не помогут. Соответственно, нужно вести здоровый образ жизни, быть активным, проверяться у врача, если возникают головные боли, и регулярно измерять кровяное давление.